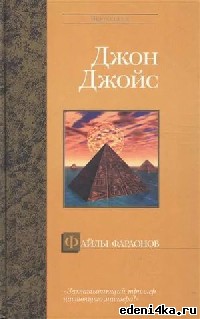АЛЕКСЕЕВ Глеб / Дунькино счастье
Категория: Советская классическая проза / Серия: -
Аннотация
Стала я так-то у них всё одно, что своя. Я и в театр на транвае съезжу, и вру там, бывалача, главному ихнему прямо в лицо: «Очень, мол, наш талантливый Михаил Василич разболемшись нынче», — а он, конечно, вчера по пьяному делу с лестницы ссыпался, все три этажа смерил, я и в лавочках кредит завела — тоже и так бывало — в получку икру почём зря лопаем, а то и картофель на постном масле жарим. И стала я присматриваться к жизни и привыкать, всё, бывало, думаю: что к чему? — и очень мне всё чюдно сначала казалось. Конечно, городской человек по-другому живёт, на дни счёт своей судьбы ведёт, а взглянешь в корень — очень даже городские люди жизни не знают и живут почесть что как придётся и никогда не антиресуются, какое судьба им испытание приготовляет. Попривыкла я и к пациенткам этим самым. Иная придёт и ещё в передней наплачется: «Дома ли, — спрашивает, Клавдия Ивановна?» — а у самой губы синие, и глаза как таракане по углам бегут. Напаскудить, конечно, — напаскудила, ну, а, грех открыть — всё одно, что в деревне
Отрывок из книги
Вижу я: добивается человек своего, всем им, кобелям, одноё нужно, но добивается тонко по-образованному, не то, что Андрюшка какой-нибудь, медведь гололобый, — опять-таки полезный человек, и, может быть, сама судьба посылает его на мой жизненный путь, и так иной раз раздумаюсь над его словами, так раздумаюсь, — до слёз, голову заломит от невозможной мысли. Сам он, конечно, очень уж рябой из себя был, лицо будто птицы поклевали, и вся тело у него белая, как из муки, — конечно, моется почём зря каждый день. «Как, — думаю, — тут ловчее поступить? Кинуться мне за него замуж — счастье своё выведать, стравить одёжку кое-какую, а там и разойтись можно. Да ведь тоже нелёгкое дело замуж броситься даже по советскому браку!..» И решилась я повести с ним тонкую политику и посулов ему всяких надавать — посул-посулом, а там видно будет… Чую только одно, что вот оно — совсем рядом моё счастье ходит, а взять не умею, нипочём одной те взять. А тут и подвернись эта самая девочка Синенкова — пятнадцать лет ей всего и было, и в школе она ещё училась. Пришла к Клавдии Ивановне на приём, упала ей в ноги и говорит: «Если вы меня не спасёте от позора в пятнадцать лет родить, — останется мне бросаться в Москва-реку с Устинского моста». «Раздевайтесь, — отвечает Клавдия Ивановна дрожащим голосом, — сейчас посмотрим ваше горе, а только вы, — говорит, — не волнуйтесь, бывает в ваши молодые годы, что не приходит то, что вам надо, но внутренней причине, а не по вашей вине». Я, конечно, тут же стою, и вспоминаю, что у меня тоже с самого приезду в Москву ничего такого нету, да и было, может, один раз, — однако, принесла Клавдии Ивановне мыльной воды, стоит она — руки моет, а девочка Синенкова снимает с себя синее платьице, шляпочку сняла, под шляпочкой косичка с бантиком, — в куклы бы играть, а она, сволочь, вон какими делами занимается… Ну, скажи ты мне, Грунюшка, до чего разврат по Москве пошёл! Посмотрела Клавдия Ивановна на неё и говорит печально: — Факт на лице, и беременности вашей уже четвёртый месяц. Как же вы, — говорит, — нагуляли аборт так неосторожно, теперь и сделать ничего нельзя? Сидит она на стульчике без рубашки, дрожит, и вижу: очень боится. Подняла на Клавдию Ивановну свои детские глазки, а глазки-то словно серпом подкошены: — Что ж мне теперь делать? Очень помирать не хочется в мои молодые годы! — Зачем же, — отвечает Клавдия Ивановна, — помирать? Не надо помирать! Родится у вас ребёнок, выйдете замуж за отца вашего ребёнка, и, может быть, очень счастливы будете? — Замуж, — говорит, — я за него пойти не могу. Он — сам всего шестнадцать лет имеет, без совершеннолетия, — говорит, — живёт, и на даче надо мной снасильничал… — Вот, — тут Клавдия Ивановна ко мне стала говорить, — видишь, — говорит, — Дунюшка, моя дорогая, какие весёлые штучки наша городская жизнь доказывает… Единственная, — говорит, — правда на земле только и есть, что в ваших цветочках… Пока разговаривали мы с нею так-то, Синенкова — гляжу — одевается торопливо, шляпочку дрожащими руками надевает и к двери, а сумочку свою на столе забыла… — Барышня, — говорю, — сумочку забыли! — Возьми, — отвечает, — себе, не надо мне теперь сумочки! Клавдия Ивановна, как услыхала про сумочку, стала с лица белая, как бумага, стоит, невозможно дрожа, и губы кусает. Только та за дверь взялась, — она как вскинется: — Гражданка, постойте! Барышня Синенкова остановилась у двери, головкой к косячку услонилась, вот-вот упадёт, и смотрит поверх плеча, а ничего не видит, — мутный у неё взгляд, елозит, словно не живой… — Хорошо, — говорит Клавдия Ивановна, — оставайтесь! Дунюшка, выйди! Заперлись вдвоём в комнате, делают горькое своё дело, и слышу я в передней, как стонет та девочка Синенкова через зажатые зубы, и вода капельками в таз стекает, и так мне страшно стало, так стало страшно, милая ты моя, — зуб на зуб не попаду, сижу, как мыша в мышеловке… Проводила её потом на извозчика, синяя она с лица сделалась, словно ощипанная курица, шепчет тоскливо: — Всё, — говорит. — Вот, — говорит, — тебе записка, сходи ты к нему, вызови его во время перемены уроков, скажи ему, что видела, скажи ему, какой он мерзавец… — Трогайтесь, — отвечаю, — за ради бога! — Вижу — извозчик одним ухом приникает, да и Платон Петрович на лавочке сидит и глазом мне нахально моргает. И только мы ту барышню Синенкову и видели. Слышно было — умерла она в больнице. И первый же Платон Петрович и сообщил мне, как громом, эту печальную событию. — Умерла, — говорит, — ваша пациентка-то… Финита… Умерла, — говорит, — в больнице в нечеловеческих мучениях, а вас, сволочей, не выдала… смолчала.